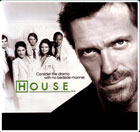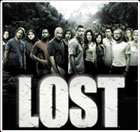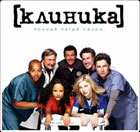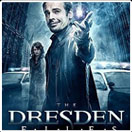Оперативная доставка: по Москве и области (в день заказа), Санкт-Петербургу (2 дня), по любому городу/региону РФ (3-5 дней), по Ближнему и Дальнему Зарубежью.
(495) 317-00-02
(495) 317-00-05
(495) 317-00-05
| Фантастические сериалы......................... 01 | Мультсериалы.......................................... 04 | |
| Западные сериалы................................... 02 | Наши сериалы.......................................... 05 | |
| Латиноамериканские сайты..................... 03 | КВН........................................................... 06 |
Введите название фильма
Подарочная упаковка............................. 08
Дисконтные карты.................................. 09
Архив........................................................ 10
Новинки:
Наши плюсы:
Наши плюсы:
- Гарантии самых низких цен и самого высокого качества!
- Промо-Акции и сезонная распродажа, скидки на телесериалы и сериалы dvd! Скидки для Постоянных Клиентов, сезонные скидки(суммируются)
- Круглосуточная работа и консультации без выходных/праздников (24/7)
- Гибкий персональный подход к запросам Покупателя
- Гарантия 3 года
- КАК СТАНДАРТНЫЕ, ТАК И ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ (оригинальная упаковка)
Ваши Мечты Сбываются!
популярное:
Сериал «4400» ........................ купить »
Сериал «Остаться в живых» .... купить »
Сериал «Побег из тюрьмы» .... купить »
Сериал «Клава Давай» ........... купить »
Марлен Дитрих и немецкое кабаре начала ХХ века
Рефлексия восприятия пространства и времени
Дневники — это работа с переживаниями, через рефлексию собственного восприятия пространства и времени. Искусство телеэкрана, обращаясь к дневникам, имеет возможность вывести автора из «одиночества с собой» в форму общения со зрителем, создавая экранное зрелище как новый вид текста — медиатекст, где идет другое выделение смысловых единиц, существует другой характер взаимодействий. Этот материал привлекает внимание зрителей, делает программы рейтинговыми.По М. Маклюену, если в доэлектрическую эпоху техника была продолжением органов человека, расширением их вовне, то современные средства массовой коммуникации — это расширение человека вовнутрь, расширение его центральной нервной системы, «взрыв вовнутрь». Телевидение по своей природе предполагает наиболее глубокую (сравнительно с другими СМИ) вовлеченность человека в процесс, демонстрируемый на экране, именно в процесс, а не в восприятие законченности, результата, что ставит проблему перевода текста с вербального языка на визуальный, телевизионный, идет ли речь о чисто литературном первоисточнике или сценарной основе.
Экранизируя воспоминания и дневники, телевизионные авторы опираются на стереотипы массового сознания, позволяющие театрализировать, усиливать игровые линии сюжетов, «осюже-тить» тексты, соединить несоединимое в другой сетке координат, имитируя реальность, используя при этом фрагментарность, гиперреалистичность и сдвиг в психологии аудиовизуального восприятия массового зрителя. Это достигается техникой электронного монтажа, эстетикой видеоклипа и опорой на привычку к агрессивной телевизионной рекламе. Современный «иноязык» постмодернистской эстетики, который дает возможность достижения «мнимой» подлинности этих текстов, стирает границу между «было» и «не было», переводя события из небытия в бытие.
Это «другое» достигается переселением вербальных героев в визуальное пространство, что вынуждает их осваивать, искать и находить в нем себя, страдать, выживать, утверждаться уже в глагольных формах, в предметном цветном или черно-белом мире. Время становится необратимой реальностью и измеряется здесь, на экране, как и человеческая жизнь, началом и концом последней. Здесь мы имеем дело с «новым первобытным сознанием».
Сознание книжно ориентированного человека, человека гутен-берговской эпохи, все строится на ньютоновских представлениях о пространстве и времени. Тут пространство имеет вид пустого ящика, может быть наполнено разными, но равноизмеримыми вещами, а может оставаться пустым, не теряя от этого своей непрерывности и гомогенности. Географические карты Нового времени созданы на основе именно этих ментальных структур: они отражают наложенную на физическую территорию сетку «объективного» взгляда, но не усталость ног, преодолевших эти расстояния, не боль или радость путешественника, а потому «дикарь», человек более ранней культуры, будет глубоко разочарован в них и посоветует не доверять таким картам.3 Пространство и время эпохи Нового времени — непрерывны, единообразны, линейны, однонаправленны, последовательны, безразличны к человеческой жизни. Но для первобытного сознания — как и для «новой первобытности», нынешней — в этом заключена большая ложь. Время сегодня — это плюрализм времен многочисленных сосуществующих вещей, вне жизненной драмы которых времени просто нет, и в этом будут согласны и какие-нибудь индейцы хопи, и современные физики.