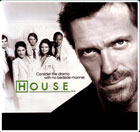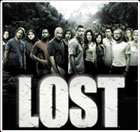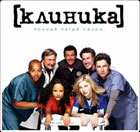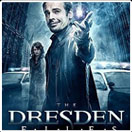Оперативная доставка: по Москве и области (в день заказа), Санкт-Петербургу (2 дня), по любому городу/региону РФ (3-5 дней), по Ближнему и Дальнему Зарубежью.
(495) 317-00-02
(495) 317-00-05
(495) 317-00-05
| Фантастические сериалы......................... 01 | Мультсериалы.......................................... 04 | |
| Западные сериалы................................... 02 | Наши сериалы.......................................... 05 | |
| Латиноамериканские сайты..................... 03 | КВН........................................................... 06 |
Введите название фильма
Подарочная упаковка............................. 08
Дисконтные карты.................................. 09
Архив........................................................ 10
Новинки:
Наши плюсы:
Наши плюсы:
- Гарантии самых низких цен и самого высокого качества!
- Промо-Акции и сезонная распродажа, скидки на телесериалы и сериалы dvd! Скидки для Постоянных Клиентов, сезонные скидки(суммируются)
- Круглосуточная работа и консультации без выходных/праздников (24/7)
- Гибкий персональный подход к запросам Покупателя
- Гарантия 3 года
- КАК СТАНДАРТНЫЕ, ТАК И ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ (оригинальная упаковка)
Ваши Мечты Сбываются!
популярное:
Сериал «4400» ........................ купить »
Сериал «Остаться в живых» .... купить »
Сериал «Побег из тюрьмы» .... купить »
Сериал «Клава Давай» ........... купить »
Разнообразие субкультур во второй половине ХХ века
Маргинальность панк-рок-субкультуры
На поверхность общественного сознания выходит такая категория постмодернизма, как маргинальность, подразумевающая «сознательную установку на пери-ферийность по отношению к обществу в целом и его социальным и этическим ценностям».30 Фигура панк-рокера оказывается в роли бунтаря-маргинала, который, по словам Ролана Барта, «ниспровергает свидетельства и универсалии, замечает и выявляет в инерции и притязаниях современности слабые места».31 Неслучайно подавляющее большинство панк-рок-текстов посвящено социальной тематике: коррупции в политике, тотальному загрязнению окружающей среды, глобализации, навязываемой сверху идеологии и т. д.Таким образом, для панк-рок-субкультуры характерны де-центрация, полифоничность, отсутствие структурной иерархии составных частей. Это позволяет рассматривать данный феномен как ризому-корневище, где, несмотря на различия, все ее составляющие (punkhardcore, pop-punk, D. I. Y.-направления) связаны между собой и являются частями одного целого, что полностью соответствует принципу сцепления ризомы. Согласно принципу незначащего разрыва, корневище может быть разорвано или разрезано в любом месте, но, несмотря на это, оно возобновит свой рост либо в старом направлении, либо выберет новое. Проецируя этот принцип на феномен панк-рок-субкультуры, остается лишь вспомнить, что все попытки советского государства покончить с панком как антиобщественным явлением в молодежной среде ни к чему не привели. Следовательно, принцип незначащего разрыва фактически означает бессмысленность борьбы государства с этим феноменом молодежной субкультуры, так как всегда были и будут люди, которые, двигаясь вопреки контексту, готовы создавать нечто «свое».
Таким образом, теория и методология постмодернизма позволяют отказаться от попыток подвести неоднозначный эмпирический материал панк-рока под общий знаменатель, что дает возможность создать не плоскостное, а объемное изображение данного феномена. Однако с точки зрения постмодерна и это не будет являться последней инстанцией, а лишь семантическим полем для новых и новых интерпретаций, ведь «истина — всего лишь средство, и оно не одно».