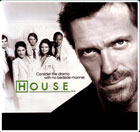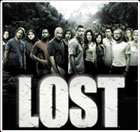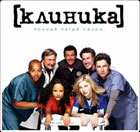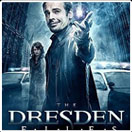Оперативная доставка: по Москве и области (в день заказа), Санкт-Петербургу (2 дня), по любому городу/региону РФ (3-5 дней), по Ближнему и Дальнему Зарубежью.
(495) 317-00-02
(495) 317-00-05
(495) 317-00-05
| Фантастические сериалы......................... 01 | Мультсериалы.......................................... 04 | |
| Западные сериалы................................... 02 | Наши сериалы.......................................... 05 | |
| Латиноамериканские сайты..................... 03 | КВН........................................................... 06 |
Введите название фильма
Подарочная упаковка............................. 08
Дисконтные карты.................................. 09
Архив........................................................ 10
Новинки:
Наши плюсы:
Наши плюсы:
- Гарантии самых низких цен и самого высокого качества!
- Промо-Акции и сезонная распродажа, скидки на телесериалы и сериалы dvd! Скидки для Постоянных Клиентов, сезонные скидки(суммируются)
- Круглосуточная работа и консультации без выходных/праздников (24/7)
- Гибкий персональный подход к запросам Покупателя
- Гарантия 3 года
- КАК СТАНДАРТНЫЕ, ТАК И ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ (оригинальная упаковка)
Ваши Мечты Сбываются!
популярное:
Сериал «4400» ........................ купить »
Сериал «Остаться в живых» .... купить »
Сериал «Побег из тюрьмы» .... купить »
Сериал «Клава Давай» ........... купить »
Революция как тема популярного советского кинематографа 1960-1980-х годов
Образы советского кинематографа
Фильм Говорухина «Место встречи изменить нельзя» не ставит под сомнение самого главного — высокий образ советского работника правоохранительных органов, — ограничиваясь дискуссией о методах борьбы с преступностью. Конфликт между Жегловым и Шараповым ле.шь выявляет внутренний драматизм их профессии, что является излюбленным мотивом всего мирового кино. Это история нашей страны придает данному универсальному мотиву отечественную специфику, актуальность неразрешенной нравственной и политической дилеммы.ем не менее картина является почти уникальным примером опосредованного пересмотра официальной концепции бытия советского общества означенного периода. «Место встречи...» нельзя поставить в ряд картин, образовавших разновидность истерна о послевоенном времени, — этого ряда просто нет. Канонические авантюрно-криминальные сюжеты о той эпохе немыслимы без образа внешнего врага в лице нацистов, зарубежных шпионов или хотя бы предателей, согласившихся сотрудничать с ними. Видимо, это весьма закономерно. В эпоху постепенного разочарования в советских и социалистических идеалах был необходим другой, уже не связанный с революцией, высокий миф о защитниках страны и победителях агрессора, негативная сущность которого не будет даже на уровне подсознания подвергаться сомнению.
Любопытно, что судьба разведчика-одиночки в тылу неприятеля стала центральной темой и в «Семнадцати мгновениях весны» (1973), и в «Адъютанте его превосходительства» (1969) Евгения Ташкова. Но стать национальной культовой картиной «Адъютант...», вероятно, не мог бы ни при каких обстоятельствах. И дело не только в том, что «Семнадцать мгновений...» обладают эстетической и сугубо публицистической содержательностью, которой лишен профессионально добротный фильм Ташко-ва. Собственно, изначальная установка на чисто развлекательную жанровость, вне авторского осмысления самой революционной эпохи, в «Адъютанте...» тоже вполне закономерна — на большее тема революции уже не вдохновляла.
Татьяна Лиознова с Юлианом Семеновым обратились к теме Великой Отечественной войны и создали существенную авторскую концепцию даже не столько пути к победе (как раз с этим многие спорят, не будучи склонны преувеличивать роль советской разведки), сколько человеческой сущности героя и героизма в целом. Эта концепция и оказалась некоей безотносительной и даже почти святой ценностью для самовосприятия нашей нации. Ни очевидная условность сюжета, ни чрезмерная идеализация героя не в силах эту ценность отменить, поскольку не отменима вера зрительской аудитории в необходимость существования таких героев, как Штирлиц, — с такой нравственной безупречностью, с такой преданностью родной стране и, главное, с таким стремлением приблизить именно ту победу, которая действительно необходима большинству людей в нашем обществе.